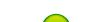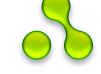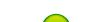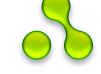| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Главная » 2010 » Июнь » 18 » Смерть дельфина
|
Любовь – это тебе не Анфиса Чехова.Мой старенький позапрошлогодний рассказик, первая попытка того, что называю "глиной". Рассказ плохой и неинтересный. Написала просто потому, что хотелось выговориться.
Сейчас тоже хочется, а слов нет. Пусть этот рассказ висит тут.
Я рассказывала тебе о том, что мне уже третью ночь подряд снится, как меня съедает заживо собака, а ты смеялся. Может, потому, что сам никогда снов не видишь. Я рассказывала тебе, какого забавного ребенка вчера на улице видела, а ты плакал... Сигареты горло дерут, но не курить нельзя, тут только мертвый не закурит. Ты не мертвый – и ты куришь. А помнишь, ты мне тогда сказал, что куришь только для того, чтобы себя почувствовать живым?
Зачем тебе это надо? Когда страдает мама, когда я не могу разобраться сама в себе, когда я иду по улице, держа тебя под руку, и вижу, как косо глядят на меня иные прохожие – я хочу этой самой пресловутой смерти с маленькой буквы, хочу жирной, горькой кладбищенской земли, хочу побитый градом черный крест, похожий на обугленный скелет калеки. Когда дети рождаются, первый их крик – крик ужаса, мол, зачем я здесь, в вашем поганом мире, зачем мне эта ваша нищая жизнь. Так один экстрасенс-неэкстрасенс говорил. Может, прав, а может, и нет, черт их всех разберет.
А с жизнью-то этой нищей ох как нелегко расставаться! Не планета, а большая помойка. Сами же мы ее в помойку превратили, но подмести и не почешемся. Чайки в нефти захлебываются. На дне океана мирно спят и поджидают своего часа девяносто атомных бомб. Сколько это в мегатоннах?.. А когда в ванне чиркнешь ножом по венам, откуда-то на ум приходят бескрайние просторы, золотое от заката море и березки с изумрудными кудрями... А чайка?.. А чайка, говорю я тебе. Но ты только молчишь и куришь. Что тебе, казалось бы, до чайки. Мне лично плевать и на чаек, и на мегатонны ядерной угрозы под мегатоннами грязной воды. Я просто бледная от постоянного авитаминоза, маленькая, прокуренная студентка. А ты кто? Ты и не знаешь, какие они – чайки – бывают! Ты тут же спрашиваешь, какие. Я молчу, думая, в каком виде передать тебе эту информацию. Чтобы она была тебе столь же понятна, как шрифт Брайля. «Они белые, – говорю. – Сука буду, белые». Блажь такая в голову мне ударила, я выдыхаю горький дым тебе в лицо. Запотевают стекла очков, черных, как дыра в моем сердце. А ты опять плачешь. Я просто беру тебя под руку и тащу в метро. В переходе курить нельзя. А хочется. Сегодня экзамен. Но вчера я почти весь день пробыла с тобой. Любовь – это тебе не Тургенев. Любовь – это такая боль, будто с тебя живого кожу сдирают. Мы стоим в переполненном вагоне, рядом ты, теплый, пахнешь корицей, сигаретами и зимой. И я тихо шепчу тебе то, о чем только что подумала. А ты молчишь. Как будто плюс ко всему и немой. Мы как сиамские близнецы – ни на секунду я не выпускала твоей руки, вместе вошли, вместе и вышли. Университет молчит. Как ты. Он огромный, из серого камня, и какой-то сырой. Парфенон, Акрополь непропеченный. Горячий кофе с запахом плавленого пластика. Красивые тетради в переходе на втором этаже. Только дороговато. И за то, и за другое. Я целую тебя – это бесплатно, только так же безжалостно больно. И еще раз, чтоб не забыл. И еще один раз – на удачу. И ухожу.
Разным людям легко даются разные вещи. С непринужденной легкостью Ирка из параллельного ложилась под каждого встречного. Изящно, невесомо Чикатило угробил полсотни человек. Я без малейшего труда отхватываю высшую оценку. Это весело, это полезно, и это может послужить поводом для новых косых взглядов. Я захожу в туалет – стереть помаду бумажной салфеткой и позвонить домой, в мелкий, как моя жизнь, городишко. Мой голос неестественно весел. Мама говорит: «У тебя там точно все в порядке?» - «Нет», - думаю я, вспомнив, что где-то на остановке меня ждешь ты – замерзший, жалкий и слепой, как моя жизнь. Ты и есть моя жизнь – жалкая, замерзшая и слепая. И мелкая, как мой родной городишко. «Все в порядке», - отвечаю. О русском оптимизме хоть бы кто додумался написать поэму.
Мы возвращаемся в сумрачный, болтливый мир перехода метро. Знаешь, на что похоже? Будто кто-то поместил рынок в огромную мраморную шкатулку. Я говорю тебе и об этом. Ты ответил мне: «Выведи меня отсюда». На мороз?.. Чудак! Я так тебе и сказала. А ты улыбнулся своей редкой, и потому такой желанной улыбкой. Доброй и всепрощающей. Так улыбаются только дельфины. Будь я тобой, я бы взвыла. Слишком уж дельфинья твоя улыбка для этого мира. Я стала целовать тебя прямо в переходе – только бы ее не видеть. Ты знаешь, как улыбаются американцы? Они демонстрируют тебе ослепительную белизну всех тридцати двух зубов, а глаза у них при этом могут выражать все, что угодно – страх, ненависть, презрение. Тошнотворная фальшь. Но от нее легко отделаться. Поблюешь – и легче. А от дикой, звериной боли, которую вызывает твоя улыбка, никак не избавишься. Даже если сердце наизнанку вывернешь.
Мы сегодня встретились в половине восьмого, и сейчас еще – утро. Мы зябнем, но курим. Мы ждем автобуса. Поехали к тебе?.. Ты спрашиваешь: «Как экзамен?» - «Пять», - коротко сказала я. Я без пяти минут пятикурсница – вот что я еще имела в виду. «Это же хорошо, а почему ты плачешь?» Кто? Я плачу? Ерунда. От мороза глаза слезятся, и дешевая тушь опять потекла. «А почему тогда голос дрожит?» Как почему? Мороз. Я дрожу, и голос дрожит.
Девке уже почти двадцать два, но какая глупая девка...
У тебя дома тепло. Я заварила нам чаю. Черный, крепкий. Пакетик на двоих – в твоей чашке поболтаю, потом в своей. Пока стою и занимаюсь возней с пакетиком, ты на ощупь находишь меня, обнимаешь сзади и говоришь что-то глупое, но милое. Думал исцелить, но сделал еще хуже – разбередил открытую рану. Слезы с дешевой тушью вперемешку капают тебе в чай. Ладно, это будет моя чашка. Ты испугался, я чувствую. Но не показал. Только прижал меня к себе. Я измазала мокрой тушью и твой свитер. Утыкаюсь носом в твое плечо, вдыхаю запах корицы, и сигарет, и мороза. Становится вроде как легче. «Ну что такое?..» - «Я перехожу на пятый курс...» - «Так это же хорошо!..»
Ты самый большой дурак на белом свете, заорала я.
Я же перехожу на пятый курс!
Это значит, что осталось всего два года прогулок под руку, сигаретного дыма и крепкого чая! Осталось всего два года тебя!
«Ты же можешь переехать ко мне. Я буду ждать, сколько понадобится. Все наладится. Ты будешь работать, я... тоже буду работать, насколько сил хватит. Может, вязать на продажу».
Ничего не наладится!
«Что тебя не пускает?»
Внутренний голос, знаешь? Только не интуиция, боже упаси! Этого ублюдка зовут «а что люди подумают».
Сказала и пожалела. Такие мы сволочи, люди. Ради еды мы редко убиваем. В основном, ради удовольствия. Правда, сомнительное это удовольствие. И я человек. И я сволочь. С тем же успехом я могла сказать: кому ты, калека, нужен?
Ты говоришь: «Уходи».
Мне ты нужен, поэтому я не уйду! Ты заплакал, и, подернувшиеся пеленой, твои незрячие глаза выглядели еще беззащитнее прежнего. Я не умею утешать плачущих. Может, потому меня и не любят. Ты требуешь, чтобы я ушла – твой голос как тугая струна, по которой провели ножом. Ты самый одинокий на свете человек, а у меня есть родители! Почему-то стыдно. Я отворачиваюсь к скованному инеем окну. Губы горят. Наверно, салфеткой натерла. Я натянуто смеюсь, и говорю, что, раз ты моя половина, у меня должно быть четыре глаза. Я не умею шутить. Может, и поэтому меня не любят. А ты молчишь. Как будто это мертвое зимнее утро началось заново. Проклятая, проклятая жизнь, что ты с нами делаешь?
Я прижала к груди твою растрепанную голову. Ведь стук твоего сердца в свое время здорово меня успокаивал. Но у меня, похоже, какое-то неправильное сердце – ты не успокоился. Еще больше огорчился. Я не умею быть нормальным человеком.
Неудивительно, что меня не любят.
Ты – существо с другой планеты. Или даже с другого конца Вселенной. Как в том моем сне, помнишь? Единственном моем сне, над которым ты не смеялся. Это сон про тебя и меня – про нас. Я так решила. Два светлых, полупрозрачных силуэта – мужской и женский – вместе, рука об руку, преодолевают тысячи световых лет. И не остановят их на пути к своей цели ни черные дыры, ни метеоры, ни космическая пыль. Мимо мелькают галактики, кометы и странное вещество, похожее на клочья радужной ваты - туманности. Вселенная сама по себе живая. Звезды выстреливают горячими протуберанцами, их неумолимо заглатывают черные дыры. А черные дыры поборем, конечно, мы.
Любовь – это тебе не Асадов.
Любовь – это Вселенная.
Мы победили космическую пыль, но не можем победить жизнь! Потому что запутались в ней. Мы близки, как конец и начало замкнутого круга. Мы далеки, как конец и начало Вселенной. А что, если Вселенная и есть замкнутый круг?
Ерунда, говоришь ты. Земные проблемы убьют нашу маленькую Вселенную. Почти уже убили. Аполлону Бельведерскому разбили голову печным горшком. Так сказал ты и засмеялся. Но смех твой был таким, что... лучше б ты снова заплакал.
Два года... Это мало, ничтожно мало! Я не думала о них, когда ехала в этот раз на сессию. Я о тебе думала. О тебе и твоей дельфиньей улыбке. В тамбуре холодно, трясет. Аж зубы стучат. Но мне тебя легче вспоминать в ледяном тамбуре, ведь мы впервые нашли друг друга зимой три года назад.
Как время летит, сказал ты.
Да. А помнишь, как ты меня в этот раз встретил на вокзале? Целовал, наверное, часа два.
Дура, отвечаешь ты. Мы проводим вместе общим счетом меньше двух месяцев в год. Как еще встречать?
Я не знаю – как... Но вспоминаю об этом, и думаю: какие же мы маленькие... Такие маленькие, что теряемся даже в пространстве твоей крошечной однокомнатной квартирки. Телевизора у тебя нет. Чистая, святая атмосфера. Почему экстрасенс не может стать атеистом? Почему атеист может стать экстрасенсом? Я больна, мой мозг прокажен. Девственница двадцати двух лет. Смейтесь над ней. Киньте в нее камень. Только ты знаешь... Любовь – это тебе не Анфиса Чехова. Любовь – это одна душа на двоих.
Если бы я могла, я бы тебя нарисовала – как ты сидишь, невидящим взглядом уставившись в окно. Я только карандашом умею рисовать. Когда я рисую красками, получается похоже на сон сумасшедшего. Если бы ты мог это увидеть, долго бы смеялся.
Если бы я могла, я бы посвятила тебе стихотворение, подробно описала бы твою дельфинью улыбку и какие чувства она у меня вызывает. Я только прозу могу писать. Когда я пишу стихи, получается похоже на молитву сумасшедшего. Если бы ты знал хоть одну настоящую молитву, долго бы смеялся.
Окно хищно ощерилось зубцами инея. В его желудке огромный, страшный мир, где для двадцатидвухлетней девственницы подготовлен терновый венец. Но нечего бояться. Ты не пустишь меня никуда из нашей маленькой Вселенной, правда?
Да, отвечаешь. Безумная, безумная... Я сижу у тебя на коленях, и ты укачиваешь меня, как ребенка. Стать бы снова маленькой, пухленькой затравленной девочкой. Она недоумевающе смотрит с фотографии, наклонив голову с дурацким белым бантом. Она ничего не понимает. Ни черта. В этом ее сила.
Ты и так маленькая, говоришь ты. Маленькая-маленькая. Но сильная. Чушь собачья. Я все понимаю, и потому слаба. Ты просишь меня ни о чем не думать и расслабиться. Не могу. Тысячи, миллионы, миллиарды мыслей роятся в моей голове. Они размножаются – быстро – как болезнетворные бактерии. Вместе с ними расщепляюсь я – маленькая пухленькая девочка с дурацким белым бантом, одержимый идеей суицида толстый прыщавый подросток, бледная от авитаминоза прокуренная студентка-заочница. Потом к чертям собачьим разлетается на осколки мое жалкое сердце-недомерок. Мама говорила, всех не обогреешь. Бездомный котенок. Шерсть как пух. Глазки застилает гной. Неродившийся человек. Загубленная новая жизнь. Жертва аборта. Рабы-негры на хлопковом поле. Мозоли, кровь. Единственное дитя пожилой чернокожей женщины продали садисту. Евреи на родной, залитой слезами, выжженной солнцем земле. Прогнать, сбросить в море. Убить тех, чьему богу вы молитесь. Девушка с алой лентой в смоляных волосах. И губы алы и дрожат. Ее пробуют на вкус языки пламени. Она ведьма – так вы сказали. Стареющего парализованного актера заживо съедают крысы. Нищие, как и он сам. Но сострадания к нему они испытывают не больше, чем бывшие друзья. Желтые от туберкулеза, румяные от чахотки жены декабристов. Хоккеист девятнадцати лет. Инфаркт. Белая халатность. Яркая, быстрая, пустая жизнь. Ты. Ты не нужен родителям. Детский дом. Сырая серая пеленка. Ты плачешь. Но ни черта не понимаешь, и в этом твоя сила. Знал бы ты, что к чему, плакал бы громче.
Я слышу, как медленно, устало бьется твое сердце, как дремлет оно, убаюканное журчанием крови. На стене икона. От прежнего владельца квартирки осталась. Тебе же все равно? Я хочу ее снять. Она пугает меня. Она мертва. Солнце, огонь, вода, земля, ветер – это все живое. Земля всех нас породила, солнце согрело, огонь накормил, вода напоила, ветер убаюкивал на ночь. Сейчас сниму. Сейчас, сейчас. Ты теплый, как земля, неохота от тебя уходить. Я вроде того актера – твое тепло приятно парализовало меня. Ты осторожно, словно китайскую вазу, укладываешь меня на диван, ложишься рядом и укрываешь нас обоих пледом. Плед пахнет корицей и сигаретами. А зима – она осталась там, в желудке хищного окна. Я начала говорить тебе, что встала в полшестого утра, но уснула, и фраза осталась неоконченной.
* * *
Я думала, что день никогда сегодня не начнется. На старых настенных часах с незастекленным циферблатом полдень. Но утро не отпускало нас. Ты принес холодный чай. Нет разницы, какой он, главное – перебить кислый вкус позднего сна во рту. Залпом выпиваю его. Завари, пожалуйста, еще чаю. Я пойду в магазин и куплю печенья. Хотя прошли те времена, когда я заедала им стресс и обиду.
Женщина поскользнулась на заледеневшем асфальте. Я помогла ей подняться и подала выпавший из сумки кошелек. Думаю, она бы меньше удивилась, если бы я пнула ее под ребро и прикарманила сумочку.
Существо, отдаленно напоминающее девушку, с черными синяками на выступающих скулах просит шестьдесят шесть рублей. Вот. Как бы это было грустно, если б не было так смешно.
У магазина урна. Я останавливаюсь. Закуриваю, часто сплевывая на асфальт. Мимо меня прошла женщина на небольшом сроке беременности и отругала. В чем дело? Я же не на матушку-Землю плюю, а на ваш треклятый асфальт, будь он неладен!
Вслед за женщиной подошел помятый субъект лет сорока. Меня окутал перегар. Если бы я поднесла свою сигарету к его рту, мы бы вместе расплавили краску на стене магазина. Девушка скучает? – говорит он. Ни в одном глазу, отвечаю. Может, в гости ко мне придете? Может, вас в кафе сводить? Внутри меня маленькая девочка с иероглифом «смерть» на лбу, вроде японской девочки Сакуры. Она говорит: «Пошел ты на хрен со своим кафе, и со своими гостями, и со своим перегаром». Я же говорю: нет, спасибо. И отворачиваюсь. Из магазина выходит беременная женщина. Это его жена. Они уходят.
«Это из-за таких, как он, мой мир не может быть светлым», - сказала японская девочка Сакура, и я с ней соглашаюсь. Повсюду мертвые голуби, как в моем родном городишке. Они умерли, неуклюже распластав пыльные, затоптанные крылья. Солдаты-миротворцы, безоружные и забытые, не преданные земле. В свете матового зимнего солнца тускло поблескивают застывшие глаза-бусинки. Утро, утро, думаю я и зажмуриваюсь.
Я купила печенья и возвращаюсь. Обшарпанная табуретка вместо столика. Ты ешь медленно, аккуратно, ни одной крошечки не просыпая. «Сноб», - говорит японская девочка Сакура, но на сей раз я с ней не согласна. Тремор вернулся. Руки трясутся, непроизвольно ломая нежное печенье. Моя половина табуретки засыпана крошками. Ты зачем-то спрашиваешь об экзамене. Какие вопросы были. Сильно ли валили. Так и сказал – валили. Я со страхом смотрю на тебя, ожидая, что ты вот-вот произнесешь ненавистное, отрывистое, как отрыжка, сокращение – универ. Но боюсь зря. Это ведь все-таки ты.
Скоро три часа. Ты целовал меня так, словно припал в пустыне к водам вожделенного оазиса. А утро все равно не уходит, и в груди отчего-то тугая пружина. Твои губы такие же ласковые и мягкие, как твои руки. Я почему-то вспоминаю беременную женщину, ее полностью открытое больное бледное лицо и жидкие светлые волосы, туго стянутые в высокий пучок. Только сейчас слабо, равнодушно удивилась тому, что она ходит без шапки. Ты отрываешься от моих губ и напоминаешь мне, что завтра воскресенье. Предлагаешь встретиться рано-рано утром и провести вместе весь день. Я зачем-то обиделась. Я ведь и сейчас еще не ухожу, говорю.
Чшшш, не кипятись, говоришь ты. Я удобно устроила голову на твоем широком плече.
«Тебе снилось что-нибудь?»
Что, так посмеяться охота? Мне семья какая-то чужая приснилась. Веселая. Все танцуют и едят много чеснока.
«Это не смешно».
Да? Странно. Ну прости. Я забыла – из головы вылетело, что даже слово «семья» тебе слышать больно.
«Ты – моя семья. – Ты ощупываешь мое лицо, деликатно, чуть касаясь его пальцами. – Хочу детей, похожих на тебя».
Ну и сволочь ты!..
Я хочу, чтоб они на тебя были похожи!
«Ладно-ладно. Как насчет такого компромисса – мальчик на меня похож, девочка – на тебя? Только обязательно чтоб были дети».
Я успокаиваюсь. А почему обязательно? Ха... Смешной ты.
«Я передумал».
Что передумал?
«А если они тоже слепыми будут? – Ты встаешь и отходишь к окну. – Уходи».
Ничего не понимаю. Да что сегодня за утро? Я порывисто размазываю по лицу остатки дешевой туши и убегаю в коридор. Перед глазами все расплывается. Не могу найти свои сапоги. Куда я их поставила?
Держась за стену, в тесный коридор вошел ты.
«Ну прости меня!.. Я не могу иначе... Я не могу допустить, чтобы ты угробила жизнь на меня! Ты создана для того, чтобы поддерживать огонь в семейном очаге, для того, чтобы рожать и воспитывать детей. Ты как яблоня...»
Реву. Какая я, к черту, яблоня, говорю. Я бурьян, дикий бурьян полтора метра ростом. Колючий и тянущий соки из окружающих. И дети мои такими же сорняками будут. Ты тоже плачешь и говоришь:
«Считай, что ты нашла почву».
* * *
Даже жизнь пролетает как одно мгновение, что уж там говорить о неделе!
Я снова уезжаю.
Рядом с вагоном сутолока. Маленькие женщины с большими хозяйственными сумками. Большие мужчины с маленькими спортивными сумками. И мы, как всегда, чужие. Затерялись. Я жадно смотрю на твое бледное, отрешенное лицо. И жалею, что у меня не фотографическая память. Ведь еще полгода мы не увидимся. До лета.
Ты почти налегке. Все нужное ты держишь в карманах. У наших ног стоит моя сумка. Большая, спортивная. В нее упакована вся моя жизнь. Вру. Вся моя жизнь – это ты, и я чувствую себя так, словно меня вынуждают лечь в гроб на полгода. Приеду домой, распакую вещи и лягу. Может, изредка буду пробуждаться от спячки и пытаться тебя нарисовать. Или посвятить тебе стихотворение. Ты говоришь:
«Два года?..»
Два года, отвечаю.
И тут ты задаешь вопрос, которого я одновременно и смертельно хотела и смертельно боялась:
«А потом?..»
Идите на хрен, сказала я миру, людям, мегатоннам на дне океана. От лица бездомных котят эйлурофобам – идите на хрен! От лица негров работорговцам – идите на хрен! От лица евреев арабам – идите на хрен! От лица всех, кто погиб молодым, смерти – иди на хрен! От лица мертвых голубей и захлебывающихся в нефти чаек научно-техническому прогрессу – иди на хрен! От моего лица общественному мнению – иди на хрен!
А тебе я сказала:
«Помни, ты обещал мне почву!»
Снова дельфинья улыбка. Ты правильно меня понял.
Любовь – это тебе не «протест одинокой старости».
Любовь – это любовь, и этим, черт возьми, все сказано.
* * *
Ба, знакомые все лица, говорит Грибоедов.
Мои соседи – та самая семейная пара. Меня они не узнали. Ну и прекрасно. Женщина просила уступить ей нижнюю полку, но муж заставил ее лезть на верхнюю. Тут я возмутилась. Как вы можете, говорю, она же... И осеклась. Живота у женщины уже не было. Ну не было, и все!
Аборт? Спрашиваю с беззастенчивой откровенностью.
Она буркнула что-то грубое и полезла наверх.
Ну конечно же, аборт.
Я легла на свою полку, подложив сумочку под голову. Вспомнила о тебе и затосковала. И разозлилась одновременно. Подруга-однокурсница... вернее, уже бывшая подруга, но по-прежнему однокурсница... видела меня с тобой. Прости за каламбур, родной мой человек, но твою слепоту невооруженным глазом видно. А людям до всего есть дело. Я никогда не прощу ей этих слов.
«Что, нормальных парней не было?»
Даже если она спасет мне жизнь...
Сука, сука, сука! Она ведь даже не знает, какой ты! Она не слышала твой тихий мягкий голос, твою правильную речь, чистую, как хрусталь! Ты слишком хорош для этого мира. Но мне хочется думать, что ты послан сюда ради меня.
Богом? Не-ет... Знаешь старую шутку? Попадают в ад иудей и буддист. Буддист спрашивает: «А кто угадал?» - «Мормоны угадали», - ответил иудей. Каждая религия – попытка угадать. Угадать, что нас ждет на том свете. И что нужно делать на этом свете, чтобы надеяться на лучшую участь после смерти. Огонь губителен для плоти. Раскаленное железо губительно для плоти. Но никак не для бесплотной души. Я смеюсь вам в лицо. Каков загробный мир, я знаю не лучше, чем эта бывшая беременной женщина или вон тот высокий седой проводник. И давай договоримся не называть тот мир «загробным». Гроб – это просто-напросто деревянный ящик. С шелком и пухом для тех, кто побогаче. Я атеистка не потому, что я такая скотина. В известной степени каждый человек – скотина. Я атеистка не из принципа «Вы все верите, а я не буду». Я не могу тебе объяснить, почему я атеистка. Все мои умозаключения сводятся к жалобному, но уверенному «Ну не-еет...» А что до чудотворных икон, так у одного художника портрет Алсу замироточил.
Знаешь, какую книгу я сейчас читаю? Да-да, прямо сейчас, в поезде. Пока свет не выключили. Анника Тор, «Остров в море». Шведы хорошо пишут. Тема изгоя, близкая, родная, понятная. Правда, я всегда могла перестать есть. А героиня книги может только перестать дышать. Ее положение наводит меня на неожиданную мысль: я счастлива быть русской на русской земле! Славянские русые волосы, славянские серые глаза, славянская белая кожа, не очень любящая загар. Моя земля, моя. Россия – голодная королева. На брюхе шелк, а в брюхе – щелк. Мою Сибирь по кусочкам продают иностранцам, а я молчи? Горсточки сибирской земли не стоит штат Вашингтон. Россия богатая и праведная. Называй химические элементы. Любые, что придут в голову. Все есть у моей матушки. Она как восточная женщина, увешанная драгоценностями и всегда готовая к тому, что ей трижды скажут «талак». Кто скажет? Славяне...
Свет погас. А радио над окном все равно орет. Выключу. Спать пора.
«Я т-тебе выключу! А ну сядь! Не мешай людям радоваться!» - гаркнул сорокалетний субъект и хлоп стопочку. За ним – жена. Где тут люди и чему они радуются? Постельное белье сырое и осыпается. Я на всякий случай беру сумку с собой в туалет. Переодеваюсь. Подумав, захожу в тамбур. Там мороз как на улице. Постояв минут пять, начинаю выбивать дробь зубами. Надеюсь, ты уже лег спать, и тебе тепло. Если это так, то мне будет гораздо легче вытерпеть ночь в поезде.
Да что там ночь!
Родной мой человек, как мне полгода вытерпеть?
Распитие алкоголя приостановлено. Время пошлых анекдотов. Женщина раскраснелась, аккуратный пучок сбился. Мат через каждое слово. Я мысленно порадовалась за ребенка, которому теперь уже никогда не родиться.
Только проводник сумел заставить шумную компанию немного угомониться. Немного, но мне для сна хватило.
* * *
Не сердись, прошу тебя.
Я все рассказала маме.
Кажется, я потеряла ее навсегда.
«Как ты не можешь понять, - сердито говорила она. – тебя ждет вечный ад! Этот человек не сумеет тебя поддержать. Просто грудной младенец, который никогда не повзрослеет!»
Неправда, мама! Это без него меня ждет ад! И слова про грудного младенца – абсурд! Он самостоятельнее иных зрячих!
«Сильно сомневаюсь».
Так лучше наркоман или алкоголик, но зрячий?
«Зачем такие крайности? Послушай, я всю жизнь положу, я по трупам пойду, но ты не свяжешь свою судьбу с этим человеком! Совсем идиотка?! Разве мало нормальных парней?»
Я кричу: их нет!
«Кто точно никогда не повзрослеет, так это ты». – Мама отвернулась. Или мне показалось, или слезинка поползла у нее по щеке.
Мама...
«Нам не о чем с тобой говорить. По-моему, ты все для себя решила сама. Тогда знай: у меня нет больше дочери!»
Я умолкла и, как побитая собака, уползла домой. Не стала говорить на эту же тему с отцом – исход очевиден. Сижу за столом, пью чай, смешанный с настойкой пустырника. Кот лежит тут же и пижонски жмурится на настольную лампу. Утираю слезы запястьем и думаю: что же я не кошка? У этого маленького зверька ничего в душе не происходит, не надо делать выбор, не надо ни от чего отказываться! Глажу кота по голове. Урчит. Как мало для счастья надо. Я наклоняюсь к бархатному ушку и шепчу: «Может, хоть ты подскажешь, что мне делать?» Ушко дергается, хвост недовольно стучит по столу. Да ладно, молчу-молчу.
Вообще я вот уже года два живу отдельно от родителей. Конечно, стали понемногу отдаляться друг от друга, но чтобы вот так... В голове у меня засела твердая уверенность: обязательно помиримся. Обязательно, и все тут, твердит интуиция. Откуда такие мысли, не знаю. Я подумаю об этом на досуге, но не сегодня. Пора спать, завтра на работу к восьми. Да и не думается мне сегодня.
Наверное, я плохая дочь, но... Либо ты, либо никто другой. Я люблю тебя больше своей нищей жизни. И любовь моя нищая, но живая и настоящая. Мама со временем поймет: у меня нет другого выбора. А может, и не поймет. Но я скорее с головой расстанусь, чем с тобой.
Да что там, уже рассталась...
* * *
Вот и лето. По утрам в поезде далеко не так холодно, как зимой. А в тамбуре даже жарко. У меня соседи вполне терпимые – добродушная пожилая женщина и мужчина лет тридцати с маленькой дочкой. Летом свет выключают позже – я с упоением разгадывала японский кроссворд до полуночи. Настроение у меня впервые за полгода приподнятое. На вокзал меня провожали родители. И мама заговорила со мной. Я счастлива. Может, наши жизни и пошли по разным тропинкам, но порвать все мосты нельзя. atned.info Это моя семья. Другой я не хочу.
Интересно, как ты там? Сегодня ты снова встречаешь меня на вокзале. Я заранее предвкушаю, как крепко обниму тебя и задам тысячу вопросов... Я счастлива до безумия. Безобразно, сумасшедше счастлива. Счастлива этому доброму, солнечному, словно лукаво прищурившемуся утру. Счастлива тому, что живу, дышу и скоро ступлю на твердую землю. На часах ровно восемь утра. Я встала в шесть. Из-за санитарной зоны, будь она неладна. Но кофе вкупе с бутербродом возвращают мне бодрость. Я помогаю пожилой соседке убрать постель. Угощаю девочку пирожком, тут же купленным. Я улыбаюсь. И, глядя на меня, улыбаются все остальные. Жизнь наладилась. Еще одна идея возникла у меня насчет тебя: а что, если все можно исправить операцией? Правда, а вдруг дело не в глазных нервах? Мы можем насобирать денег, и...
Чем больше я думаю об этой идее, тем больше она мне нравится. Я, кажется, начинаю серьезно верить в то, что ты когда-нибудь сможешь видеть.
Восемь часов двадцать минут. Вот и приехали! Я первой рвусь к выходу. Мне не терпится увидеть тебя и все-все рассказать!
Куда ты подевался? В восемь двадцать ты обычно уже стоишь на перроне, неторопливо куря. Я с недоумением смотрю по сторонам. Опаздываешь, опаздываешь...
Я тоже закуриваю и иду в сторону здания вокзала. Это была предпоследняя сигарета, надо купить в переходе пачку. Мое внимание привлекает скопление народа на привокзальной площади. Все переговариваются вполголоса, как будто боятся кого-то спугнуть. Торопиться некуда. Я подхожу: ну что у вас тут происходит?
«Тут один мудак за руль пьяным сел. И на тротуар его снесло... Прохожего сбил насмерть», – сердито сообщает низенький мужчина в фуражке, нервно теребя в руках барсетку. Женщина лет сорока с крашеными в баклажановый цвет волосами со вздохом сказала:
«Что за люди, что за люди... Парень-то совсем молодой был, жить бы да жить...»
Толпа понемногу редеет, открывая моему взгляду безвинно пострадавшего.
«Девушка, на вас лица нет!»
Я подхожу. Ноги словно ватные. Сердце оборвалось и ухнуло куда-то вниз. Его стук болью отдавался в ушах. Шок. Мои руки действовали словно отдельно от тела. Я уронила сигарету, нечаянно прожгла кофточку и закурила вторую, последнюю, сразу же.
В отличие от меня, ты был спокоен. Словно лег поспать на привокзальной площади. Так, из прихоти. Из-под черных очков по бледным, как никогда, щекам струилась кровь. Словно ты просто плакал. Но слезы почему-то красные. Я подняла глаза к небу. Ты обязательно там, прячешься в какой-нибудь галактике. Но небо голубое-голубое, ни единой звездочки. Словно в насмешку. Зачем такое солнце, если ты умер? Зачем такое утро, если ты умер? Я потрогала твою руку. Когда-то, тысячу лет назад, она была доброй, чуткой и теплой. А теперь она чужая, холодная и твердая. Я прижала ее к своей щеке. Неподалеку в урне копошилась чайка. Почему она жива, а ты нет?
Люди что-то говорили, но я не слышала, что именно. А может, это сон? Ну конечно, глупый, смешной сон. Мы вместе над ним потом посмеемся. Наверное, я уже проспала и началась санитарная зона. Плевать, главное, чтобы это был сон!
Проблема в том, что я могу талантливо обмануть кого угодно в мире, кроме двух людей.
Тебя.
И себя.
Наверное, так надо. Уж слишком у тебя дельфинья улыбка.
Но мне от этого не легче.
Я приглаживаю твои, как всегда, растрепанные волосы. С чудовищной болью вспомнила, как ты любил, когда я тебя причесывала.
И только сейчас тяжело разрыдалась, уткнувшись лицом в твою грудь, в родное сердце, которое навсегда равнодушно замолчало.
* * *
Ночью мне приснился ты.
Ты улыбнулся и сказал: «Я дождусь тебя! Дождусь! Обещаю!»
|
|
Категория: Новости |
Просмотров: 354 |
Добавил: muchand
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|