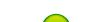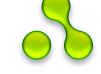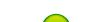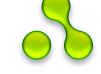| Статистика |
Онлайн всего: 1 Гостей: 1 Пользователей: 0 |
|
Главная » 2010 » Август » 12 » Западная Сибирь. Омск. Литобъединение. Конец семидесятых.
15:31 Западная Сибирь. Омск. Литобъединение. Конец семидесятых. |
Трегубов, конечно же, читал нам своё коронное стихотворение «Женский день», которым неизменно заинтересовывал сибирскую публику на всех поэтических выступлениях.
Омск конца семидесятых годов – закрытый город с пылающим факелом нефтезавода, с ещё налетающими из казахстанской распаханной целины пыльными бурями, с Иртышом, расцвеченным мазутными пятнами, зимой со скрипящим сухим снегом под ногами, город миллионный, растянутый, бетонный. Даже графоманы в нём были особенные, запоминающиеся:
Наша родина прекрасна
И цветёт, как маков цвет,
Окромя явлений счастья
Никаких явлений нет!
Возможно, с этими строчками был согласен и Виктор – родной брат Павла Васильева, отбывший десять лет в местах заключения и прогуливающийся по набережной с руками, скрещёнными за спиной, с необыкновенно прямой, независимой осанкой.
В это время уже катилась к закату жизнь алкоголика и бича Аркадия Кутилова – ярчайшего непечатного поэта тех времен. Летом 85-го его труп в грязной рваной одежде найдут в одном из центральных скверов города. Труп никто не востребует, и место захоронения поэта останется неизвестным. Но ещё в то время после майских парадов и демонстраций Кутилов писал:
Ну, припомни Сенатскую площадь!
Ну, вглядись, как похожа толпа!..
Ржёт фагот, как гусарская лошадь,
и отчаянно плачет труба…
Капельмейстер без оху и страху
Омск вечерний берет «на ура»…
Капельмейстеру утром на плаху,
Но далече ещё до утра.
Сердце омское рвётся на части,
Дыбом волосы, мысли торчком…
И филёр, задыхаясь от счастья,
Мчит с доносом в ближайший райком.
Не хочется писать по порядку. По порядку пишут всё, что скучно. А всё, что интересно пишут не по порядку.
Поэтому сразу начну с нашего литобъединения и с Пашки Радзиевского. Сначала бросались в глаза его светло-пепельные волосы до плеч. Шевелюра, которой бы позавидовал любой хиппи тех времён. Потом становилось ясно, что у него нет пальцев на обеих руках. Сигарету он вставлял в оставшуюся выемку между отсутствующими большим и указательным и смачно затягивался. Сердобольные поэтессы застёгивали ему пуговицы на куртке и поправляли небрежно обмотанный шарф: морозы в Сибири лютовали как и сто лет назад. Собственно из-за морозов он и лишился нормальных рук и ног. Ну и конечно из-за пьянки. Заснул пьяный на снегу и отморозил.
А в юности он играл на гитаре в какой-то джаз-банде. Был весь из себя. Носил футболку с надписью «Хочешь поцелую?» Пока не нашлась одна, как он их называл - шалашовка, не ткнула его наманикюренным пальцем в грудь и не сказала: «Хочу!» А он взял и смутился. Если не ошибаюсь, она так и стала его женой. А он, уже без рук, стал художником.
Он наматывал на культю резинку для трусов, просовывал под неё ручку, и тончайшим ученическим пером творил чудеса. Некоторые его рисунки (насыщенные мелкими подробностями) можно было рассматривать часами. Когда он хотел раскрасить работу, он опускал прямо в акварель или гуашь ладони, потом оставлял на листе причудливые отпечатки.
Это про него Жорка Бородянский (о котором речь пойдёт чуть позже) написал:
Художник, который живёт на износ,
Как будто сегодняшний день – предпоследний.
Художник – трюкач, марсианин, матрос.
Вся рухлядь его еле дышит в передней.
Навалено шмоток – поди разберись,
А легче по стенке до кухни добраться.
-Здорово, непризнанный сюрреалист!
А он мне: - Откуда такое злорадство?
На стульях афиша в развёрнутый рост.
К брезентовой робе гуашь присыхает.
Я слышал не раз, что по жизни порхает
Художник, который живёт на износ.
А он натирает сухарь чесноком,
Заварку, как порох, в стакан высыпает,
Щетиной зарос и пропах табаком.
Но миг озарения всё искупает.
Под самый рассвет он, счастливый, уснёт.
А завтра продолжит.
И завтра – начнёт.
В нашем литобъединении Пашка Радзиевский, пожалуй, был самым талантливым. Он обладал неисчерпаемой фантазией, юмором и потрясающей работоспособностью. Он писал общими тетрадями прозу и стихи, письма, забывал, терял эти тетрадки у своих многочисленных, иногда случайных, знакомых, использовал листы на самокрутки. Он до сих пор так и не издал книжку, не вступил в Союз. Многие свои образы, метафоры он просто подарил другим. «Драгоценная пыль» в моих стихах – это его образ. Я бы такого не придумала.
Сейчас, находясь за две тысячи километров, я могу только жалеть, что не собирала его стихов. Вот одни, которые в те времена не напечатало бы ни одно издательство, по причине отсутствия в них коллективизма.
Пришел и коротко сказал:
-Разочаровывайся!
Как будто смертнику –
«с вещами собирайся»!
-Всё чушь! – сказал.
–Где ты увидел золото?
Вот этот? Эта? Эти?
Гниль и вонь!
Старо ведь всё. Живи, не заблуждайся!
Ну, взять, хотя б, обычная вода…
Ну, хоть родник святой…
В него смотрясь, примеривали лица.
В родник плевали, может быть…
Чем хуже эта, из-под крана?
Вода – вода.
Предназначенье – мыться,
Пить кипяченую,
Ну, огурцы полить…
Разочаровывайся и гаси огонь!
Свеча коптит, а копоть портит стены.
Да и со стороны, знаешь, нехорошо –
Единоличная свеча в век электричества.
Вот - выключатель!
Это общий свет!
И не задуть - закашляйся, задуйся.
Ушёл.
Сижу. Темно.
И давит пустота.
Сосед открыл родник, поставил брагу.
Да, в друге я уже разочарован.
А в остальном –
Всё также жгу свечу, ищу родник,
Люблю опять безмерно,
Стихам завидую, написанным в семнадцать…
Ещё надеюсь встретить человека.
Многие его стихи начинались случайно и обрывались, как бы не имея вид законченного произведения. Любимый орфографический знак – многоточие. Он часто рисовал Георгия Бородянского и никогда Юрия Перминова.
Что касается Перминова, следует отметить, что у него хорошая фамилия, но плохая наследственность насчёт пороков и вредных привычек. Кроме остальных вредных привычек числилась и такая: он ухаживал за всеми поэтессами литобъединения. На некоторых даже производил впечатление. До тех пор, пока не выяснилось, что каждой он говорил, что у неё волосы пахнут хлебом и молоком.
В стихах у него с метафорами тоже было не густо.
Воробьи запели хором.
Шапку оземь!
Вот так случай:
Край у неба был распорот,
Солнце вывалилось. Тучи
Разбежались кто куда.
В октябре.
Вот это да!
А с оптимизмом и сейчас ничего:
Проветрю комнату. Проверю,
что там, в карманах, со вчера…
И муху – сонную тетерю - смахну с побитого чела.
И надо – от кого награда? –
рукав разорванный зашить,
и фразу «жить на что-то надо»
короче сделать: «надо жить».
Самые короткие стихи в литобъединении писала Марина Безденежных. Она была правильная. Не таскалась после занятий по квартирам, где выпивали и продолжали обсуждение прочитанного (уже неформально) остальные таланты. Она ещё училась в школе.
Писать не умею по-взрослому.
Пишу, сама удивлённая,
Стихи голубые и розовые,
И все, конечно, зелёные.
Руководила нами Татьяна Георгиевна Четверикова. Мы были ей интересны. А она была интересна нам. Мы её боготворили, ловили каждое её слово. Мы к ней предъявляли такие требования, каким не мог соответствовать никто. Затем мы её сбрасывали с пьедестала, осуждали, возмущались… Но никогда мы не были к ней равнодушны. Мы всегда следили за её жизнью, мы читали все её книжки, удачные и неудачные, мы передавали её слова, мы толковали её взгляды. Слишком много она для нас значила, слишком много она дала каждому из нас, слишком многому она нас научила, слишком ревностно она выращивала из нас поэтов.
Меньше всего она представлялась нам просто женщиной с обычной женской судьбой, каковой являлась её лирическая героиня:
Женщина играла песню Сольвейг
В городской, непрочной тишине.
Словно потревоженная совесть,
Вьюга хороводила в окне.
А мужчина всё курил и слушал,
Глаз не отрывая от окна,
Так и не сумел найти он лучше
И вернее друга, чем она.
К женщине любившей, нелюбимой,
Он не смеет повернуть лицо,
потому что просто шёл он мимо,
просто вспомнил старое крыльцо
и вошёл угрюмый и усталый.
Ну, а здесь он, как и прежде, мил.
И смеялась, будто бы прощала
То, что столько лет не приходил.
А теперь ещё и эта песня
Разрывает старенький рояль,
Будто ей давно уже известно,
Что ему потерянного жаль.
Злился он на ноты, что когда-то
Подарил, прощаясь впопыхах.
Женщина смотрела виновато
И надежда таяла в глазах.
Но его удерживать не стала.
Уходил. И будто бы назло
Все тропинки от калитки старой
Чистым белым снегом занесло.
На наши заседания заходили и уже признанные тогда омские поэты: Владимир Макаров, Владимир Балачан, Николай Трегубов. Трегубов, конечно же, читал нам своё коронное стихотворение «Женский день», которым неизменно заинтересовывал сибирскую публику на всех поэтических выступлениях.
Баба вынеслась из бани нагишом!
Парень сразу шаг убавил – мимо шёл.
Рот разинул и глазеет – дурачок!
Тело, тело розовеет – горячо!
Но мне больше нравились другие его стихи. Их можно было читать, как балладу, как поэму и как песню:
Ходили из Туретчины,
Ходили из Неметчины
По льготному условию
В Московию за кровию.
Да за земелькой пахотной,
Да за жилеткой бархатной,
За шубой соболиной,
За страстью соколиной,
За брагою медовой,
За девушкой бедовой…
Ходили, да осталися.
Давно кресты состарились.
И я смотрю на поле,
Где выпала им доля.
Лежат в земельке пахотной,
И ни жилетки бархатной,
Ни шубы соболиной,
Ни страсти соколиной,
Ни девушки бедовой…
Роняет цвет медовый
Во поле медуница.
Светлы в России лица.
И по земельке пахотной
Иду в жилетке бархатной.
И с девушкой бедовой
Напиток пью медовый.
Но пора рассказать о Георгии Бородянском. Романтик он был ещё тот, хотя тогда мы почти все были романтиками и думали, что это хорошо. Но он был романтик в квадрате. Он жил в совершенно придуманном мире. Придуманный мир сверкал перед ним всей радугой красок, а мир реальный, туманный и блеклый, не имеющий четких очертаний, рассеивался, как призрак под взглядом его удивлённых, тёмно-коричневых, сильно навыкате глаз. Как и Пашка Радзиевский, он обладал потрясающей шевелюрой, только не светло-пепельной, а чёрной, проволочной, как у негритёнка - «чёрный чуб из-под шапки стреляет…». Непрактичный, не умеющий считать денег, неприспособленный к жизни, всегда бормочущий под нос какие-то строчки. Про его рассеянность рассказывались анекдоты, впрочем, все они были не придуманные: про то, как он пришел к девушке в одном красном и в одном черном носке, про то, как, угощая друзей чаем, за разговором он взял веник и подмёл им крошки с пола, а затем и со стола…
Вообще быт поэтам не давался. Как-то мы с мамой делали ремонт у себя в квартире. И тут пришли охломоны. Так мама называла всех моих друзей-поэтов. Они тут же взялись помогать. Серёжа Сорокин красил дверь. Как сейчас помню его, одухотворённого, с придыханием рассказывающего что-то о литературе, с поднятой вверх кистью, с которой крупными каплями падала на пол, на его носки, на его штаны краска. Так, рассуждая о высоком, он красил дверь часов пять. Она уже изнывала и плакала густыми, плохо застывающими, подтёками. А Жора тем временем забивал гвоздики в плинтус. Они извивались, как живые, до тех пор, пока я не взяла у него молоток. Быть может, после этого ремонта я и написала стихи про Бородянского:
А мне это не кажется ни странным, ни глупым.
И дело, разумеется, совсем не в том,
Что мальчик не умеет закручивать шурупы,
Зато он с марсианином коротко знаком.
А мальчик не умеет, но он ещё научится.
Ведь гвозди заколачивать – сущий пустяк!
Ну, а пока он учится, пока он мучается,
Не спрашивайте под руку: - Ну, что? Ну, как?
-Ну, как, уроки сделал, окаянный?
В булочную сбегал? Хлеб принёс?
А мальчик запирается в прокуренной ванной
И сочиняет музыку себе под нос.
Он ничего не знает о пользе пения.
Он ноты не разучивает, не ходит в хор.
Но вместо батареи центрального отопления
Сияет ему чистая звезда Алькор.
Он что-то всё бубнит. Он смотрит, как икона,
Сквозь пахнущий горелым житейский чад.
И тянут сквозняки в пространстве заоконном.
И ходики вселенские стучат, стучат.
Впрочем, обо мне он написал гораздо больше стихов. Он писал их одно за другим, потому что (так уж случилось) относился ко мне очень романтически.
Снова юность ко мне позвонила.
-Ты чего? – я спросил.
-Ничего.
Ничего, только сердце заныло
От пустого звонка твоего.
Мне улыбка твоя надоела.
Я за счастьем уже не гонюсь.
Я устал. Ты сама захотела
Разорвать наш опасный союз.
Я казался тебе сумасшедшим.
Всё о чём-то мечтал и молчал.
То бросался под поезд ушедший,
То пришельцев ночами встречал.
А когда ты исчезла внезапно
И улыбку свою унесла,
Думал я, что умру… или завтра
Закопаюсь в земные дела.
Я ботинки начистил до блеска.
Раздобыл себе место в НИИ,
Приоделся. И девушки честно
Стали мне признаваться в любви.
И теперь у меня, понимаешь,
Есть ответ на вопрос: «Как живёшь?»
Так зачем ты его отнимаешь,
А взамен ничего не даёшь?…
Что ж ты бросила трубку, дурёха,
И пропала опять без следа.
Марсианка, родная, мне плохо,
Я наврал. Я ведь умер тогда.
По стихам Жорки Бородянского можно писать исследование о том, что происходит с романтиками, когда облетает их романтизм – красивые птичьи перья для прикрытия собственного эгоизма. Эгоистами тогда мы были все. Продолжали традицию Блока и Маяковского: «А вот у поэта всемирный запой и мало ему конституций…», «и гвоздь в его … башмаке кошмарнее, чем все фантазии у Гёте…», «Любимая, жуть, когда любит поэт…»
Всё идёт своим чередом:
Дом. Работа. Работа. Дом.
Я, как все, и хотя с трудом,
Но иду своим чередом.
Я с работы иду домой.
Я доволен своей тюрьмой.
Там жена у меня в светлице,
Там в темнице моей жена.
На меня она часто злится –
Ей забота моя нужна.
Я забочусь о ней, забочусь.
Я авоську беру и бидон.
Мимо лозунгов, мимо пророчеств
Я иду своим чередом.
Как по маслу и как по льду,
Каждый день мимо вас иду.
Улыбаюсь знакомым мило,
Подливаю гостям чаёк.
И всё кажется: мимо, мимо…
И всё жду: где же мой черед?
Или такое:
А ты завинти все гайки, чтоб меня не шатало.
Я стану прямым и стройным, как башенный этот кран.
И буду носить в авоське по нескольку тонн металла,
А ты будешь только плавно включать меня по утрам.
А то мой мотор «не пашет» - какая-то ноет рана,
Какая-то в нём обида, какая-то в неё беда.
И я иногда завидую судьбе подъёмного крана,
Которому всё не страшно и ниже колен – вода.
А ты завинти все гайки, а то меня расшатало,
А то меня разболтало и воля моя слаба.
Конечно, ты не об этом – совсем о другом мечтала.
И я мечтал не об этом… И сорвана с них резьба.
Второй Жоркин сборник назывался «Хруст переломленной ветки». Жизнь, действительно, его сломала. Стихи он писать перестал. Работает газетчиком, пишет, пишет, пишет… заметки для гонорара. Подрастает дочь, её надо одевать, обувать. Всё именно так, как писал он в своих (всегда честных) стихах.
Вот и всё, что осталось. Коньяк, сигареты, слова,
От которых не вспыхнет и даже не чиркнет о стену –
Только спички ломаем. И тянут нас за рукава
Ироничные жены, которые знают нам цену.
Вот и всё, что осталось. Тяжёлые наши тела
Поднимаются, ноя. Какая-то горькая нота
Безнадежно запала. Выходим мы из-за стола,
Сотрясая посуду, с одышкою, вполоборота.
Вот и всё, что осталось. И жены под локти ведут
Лысоватых, помятых, своих нерадивых, которым
Всё на свете - не так. И чего они, собственно ждут
Эти жалкие души, к каким они рвутся просторам?
Вот и всё, что осталось у них на текущем счету.
И в холодную ночь, выдыхая дымок сигареты,
Всё ещё согревают какую-то в сердце мечту,
Эти бедные мальчики, эти смешные поэты…
Жизнь идёт. А я все вспоминаю, как мы вчетвером – я, Жорка, Саша Лизунов и Игорь Егоров – поехали из Сибири в Москву покорять столицу. Возможно, шёл январь или февраль. Мы вышли на мокрый перрон (в Москве было ноль градусов) в тяжелых зимних пальто, Егоров и Лизунов были в модных тогда в Омске овчинных тулупах. В своих шапках-ушанках с опущенными ушами и в свалявшихся мохеровых шарфах на фоне сверкающей, оживленной Москвы они выглядели, как заблудившиеся, лохматые собаки. Впрочем, не потерявшие оптимизма.
Наш азиатский десант должен был начаться с визита к неизвестному нам, но имевшему вес в Москве, поэту Александру Юдахину, редактору отдела поэзии одного толстого журнала. У нас имелась к нему записка, непонятно где, ещё в Омске, раздобытая Жорой. Бывший боксёр, ныне поэт и редактор, встретил нас дома на метро Чертановская. Человек необычайной энергии, подвижный, но, тем не менее, успевший отрастить себе замечательный круглый живот, видимо благодаря своим кулинарным способностям и умению потрясающе готовить настоящий узбекский плов. Он разделался с нами чрезвычайно быстро. Наши аккуратно собранные подборки со стихами трепетали в его руках, как тоненькие осинки в бурю: отрывался и облетал листок за листком. Он разбивал в пух и прах строчку за строчкой, образ за образом. Скоро всё закончилось. За исключением пары удачных, на его взгляд, метафор не осталось ничего.
«Работать, мои друзья, надо работать! – сказал он. – Стихи не терпят приблизительности». О том, чтобы просить что-то напечатать не могло быть и речи. А мы так на это рассчитывали. Он почитал нам свои, действительно хорошие, стихи, налил по рюмочке какого-то крепкого напитка, чокнулся «Чин-чин!» и дал понять, что больше не располагает временем.
От этой встречи остались стихи.
В Чертаново
Стучали под землёю электрички.
Сердясь, что возмутительно плохи,
В Чертаново, у чёрта на куличках,
Один поэт ругал мои стихи.
Он тыкал в строчки с натиском боксёра.
Меж тем, как я сидела чуть дыша,
И от его здорового напора
Ломался грифель у карандаша.
Он карандаш бросал, молчал сердито.
Я от стыда и Бог весть от чего,
То злые слёзы смахивала скрыто,
То с вызовом смотрела на него.
Природа за окном беззвучно мокла.
Он в руки брал стихов потёртый том
И так читал, что вздрагивали стёкла
В оконном переплёте голубом.
Подумаешь, все это учат в школе!
Но вдруг под кожей пробегал мороз,
я плакала всерьёз о чьей-то боли,
уже не замечая этих слёз.
Он провожал меня к двери сурово,
В осенний дождь, в полночную пору,
И говорил мне: «Приходите снова!»
Я думала: «Уж лучше я умру!»
Но умереть мне было невозможно,
Переступить законы естества.
Я шла к себе. С деревьев осторожно
Всю ночь слетала мёртвая листва.
Затем мы очутились в Безбожном переулке. В многоэтажном доме жили знаменитость на знаменитости: в том числе застольно исполняемый и любимый нами Булат Окуджава. Но мы шли не к нему, а к Юрию Левитанскому. Опять-таки Жора где-то раздобыл к нему записочку. Но Левитанский сообщил по телефону, что примет только двоих. Какие муки пришлось пережить каждому из нас, чтобы определиться, кто же из четверых пойдёт. Тем более было понятно, что одним будет Жора. Никогда не забуду благородства своих товарищей: мне, как представительнице слабого пола, они уступили. Двое - Егорушка (Игорь Егоров) и Александр Лизунов – грустные, в овчинных тулупах и ушанках с опущенными ушами, остались в подъезде на лестничной площадке. О, как им хотелось быть на нашем месте! Они проводили нас с Жорой смиренными и страдальческими взглядами.
Квартира Левитанского после омских хрущовок показалась нам просто огромной. Нас проводили в кабинет. В ожидании поэта, не дыша, мы рассматривали его письменный стол. Бумаг мы на нём не обнаружили. Слоем в сантиметров тридцать по всей столешнице были набросаны пачки сигарет «Ява». Когда он вошёл и сел по другую сторону стола, из–за сигарет были видны только его умные и почему-то грустные глаза и аккуратно подстриженная короткая седоватая чёлка.
Он, почти не глядя, перелистал наши стихи и печально сказал то, что мы совершенно были не готовы услышать:
-Поэзия, друзья мои, сейчас находится в мёртвой точке. Знаете, если колесо с определенным центром тяжести делает полный оборот, то потом оно застывает в мёртвой точке. Сдвинуть колесо с мёртвой точки практически невозможно. Для этого нужны титанические усилия… Для этого нужен ни кто-нибудь, а гений. А гениев нет! - Мы с Жорой переглянулись, а как же мы-то! А он продолжал, - В поэзии всё уже сделано… Даже я не могу сейчас написать новую книгу…
Как потом оказалось, к нему приходило много молодых начинающих авторов. И всем им он говорил одно и то же: про колесо и про мёртвую точку. Даже несколько лет спустя. Как будто он сам застыл в этой мёртвой точке и не мог сдвинуться с неё. И новую книгу он действительно больше не написал.
Когда мы вышли от Левитанского, Игоря и Саши на площадке не было. Оказалось, что их, как подозрительных личностей, забрали в милицию. По сигналу из квартиры этажом ниже.
Мы возвращались из Москвы несолоно хлебавши. Георгий после одной из таких поездок, их было несколько) написал:
Значит, слово своё мы ещё не нашли, не сказали.
Значит, мы ещё вряд ли кому на земле интересны –
Из провинции два чудака на Казанском вокзале
В зале отдыха, где со спины продуваются кресла.
Мы подремлем с тобой, воротник продышав, до рассвета.
Мы дождёмся обратного поезда и – до свиданья!
А в столице стихов в это время не меньше, чем снега.
А у нас, говорят, ожидается похолоданье.
Пассажиры к перрону несут чемоданы и сумки.
Вот и наше купе – две свободные верхние полки.
А потом будут длинные, длинные, длинные сутки.
Можно думать и спать, потому что устали, как волки.
Можно думать и спать до Казани, потом от Казани,
До единственной станции в этом единственном мире,
Где единственных слов мы ещё не нашли, не сказали.
А прекрасных иллюзий теперь уже нет и в помине…
В нашей компании (я уже обмолвилась о нём) существовал загадочный человек - Игорь Егоров. Стихи он писал такие:
Нечаянно разбил я чашку.
Но нет во мне досады –
Опять надеждой жизнь моя светла…
Тогда мы как-то не воспринимали его всерьёз. А теперь его называют восходящим солнцем сибирской поэзии. У него – куча книг. Впрочем, и второй Игорь – Косицын был не менее загадочен. Несколько раз он пытался предъявить этой жизни слишком высокие счёты.
Колумб
Хотелось заплатить собою,
Но чтобы раз и навсегда.
В глазах – зеленые обои,
Потом зеленая вода.
До удивительного берега
Добраться мне не удалось.
Прощай, небесная Америка!
Не ко двору пришелся гость.
Ни огонька тебе, ни отзыва.
Кругом такая пустота…
Но будто душу разморозило,
Прорвались крики изо рта!
На этот раз меня не приняли.
И я проснулся на столе.
Над головою лампы синие
Мерцали углями в золе.
Меня, наверно, не заметили
На том последнем берегу.
О чем кричал, и что ответили –
Никак я вспомнить не могу.
Игорь был (и сейчас! Слава Богу – жив. Сейчас он – восходящая звезда омской драматургии. Да, да это именно он написал несколько лет назад пьесу про Путина под названием «Президент») красавец: высокий, чуть ли ни всегда в белой рубашке, с бабочкой, с аккуратно сложенным носовым платочком в кармане. Он любил говорить загадками, полунамёками, отрывками фраз. Никогда нельзя было понять, восхищается он тобой или относится иронически. Чаще он молчал, делая при этом свои, какие-то особые наблюдения.
Вы ходите средь нас. Поёте вместе с нами.
Но под полою серых пиджаков
Облезлый хвост заметен временами –
Наследие веков.
В вечерней комнате, за дружеской беседой,
Зеленые замечу огоньки:
Без устали качаются по следу
Прилежные всегда ученики.
И грустно мне почувствовать однажды
В рукопожатии мохнатый холодок
И прочитать во взгляде влажном, -
Должно быть, дружеский упрек.
Да, действительно, такие – «в серых пиджаках» и с «хвостами» были среди нас. Были. Или был. Честно говоря, мы никогда не знали, сколько их было и кто. Мы могли подозревать того или другого, мы могли даже сопоставлять какие-то факты и уличать третьего, четвертый мог по пьянке бить себя кулаком в грудь и делать невообразимые признания, но, по правде говоря, ничто нельзя было утверждать наверное.
Кто именно собирал потерянные черновики, записывал случайные фразы, сопоставлял высказывания и относил всю эту информацию куда следует, благодаря кому распухали как на дрожжах наши личные дела, мы никогда не знали. Мне даже иногда кажется, что это был некий дух, всегда присутствующий и всегда ускользающий, и пытаться поймать его было равносильно, как в закрытой комнате указывать на каждого невиновного пальцем в то время, когда виновный уже выскользнул за дверь. Да и существовал ли этот злой дух средь нас? Не плод ли это нашей разгоряченной молодостью фантазии? Не бред ли? Мы ведь без всяких цензур знали, о чём писать нельзя. Да и не пробовали. Зато верхом смелости нам тогда казалась какая-нибудь строчка с полунамёком «…замки стареют. Ветшают заветы…», ведь слово «заветы» тогда сопрягалось только с эпитетом «ленинские».
Но в глубине облетевшего сада,
В тьме беспросветной, займётся просвет.
Среднее царство приходит в упадок.
Новое царство вступает в расцвет.
Эти лирические стихи казались тогда верхом публицистики, ведь автор утверждал, что развитой социализм эпохи Брежнева – беспросветная тьма! И что вскоре всё развалится и наступит нечто новое, очищающее, светлое!
После прочтения этих стихов на литобъединении казалось, что тот «дух» все вычислит, сопоставит, выверит, что однажды ночью в дверь постучат и… Но никто не стучал, наоборот, стихи печатались в газете, а затем и в сборнике. !
Была беспросветность, взлёты и падения, поиски ложных идеалов, попытки разделаться с этой жизнью осточертевшей, попытки воспеть её бесценную, дорогую.
Тогда я написала стихи, которые затем неожиданно для меня стали песней братьев Мищуков.
Друзьям
Ах, осторожно! Здесь – ступеньки!
А вам без надобности смотреть под ноги,
Самоубийцы, мальчики, поэты,
романтики с большой дороги!
Какие ветры вокруг свистали,
срывая флаги, взвивая мусор…
Вы не ходили, вы – летали,
витали где-то в созвездье Музы.
Ах, эта Муза! Ах, эта музыка!
Она вас просто с ума сводила.
Она вас за нос порой водила.
Она не ведала, что творила.
Ах, осторожно! Время, время
переворачивает страницу:
Урок терпения, урок прозрения…
Урок романтики не повторится?
Но если нужно, то – до свиданья!
До вдохновенья! До исполненья!
Иссякло время объединенья.
Настало время уединенья.
Уже ровесники меняют золото
на кольца медные, цветные бусы…
А нам без надобности! Мы будем молоды!
Мы с вами встретимся в созвездье Музы!
Когда сегодня я вспоминаю то время, мне мой племянник с вызовом говорит: «Странно! Вас послушать, тогда жить было невозможно, ничего не было, мыло выдавали по талонам, вам не хватало какой-то свободы. И тут же вы говорите, что каждый день жарили курицу, которую я сейчас могу позволить себе купить раз в три месяца, что не нужно было думать о деньгах, а устроиться работать дворником и чувствовать себя абсолютно свободным: писать, ругать власть и строй, собираясь на кухнях. Вы уж определитесь и говорите что-нибудь одно!»
Но в том-то и штука, что мы не думали о деньгах и карьерах, и мы не знали от какой именно фальши и лжи задыхаемся, включая телевизор, и что нас гнетёт тяжким грузом тогда, когда мы свободно шатаемся по городу, поём песни, обнявшись, и читаем стихи. И, главное, мы не знали, что всё это, с трудом выносимое нами и иногда ненавидимое, станем вспоминать, как самое счастливое время своей жизни. Как написал Георгий Бородянский:
И в годы застоя бывали просветы в оконных проёмах:
На кухоньках тесных, в уютных подъездах, унылых приёмных.
В казармах, вагонах, вокзальных уборных, больших кабинетах.
В каморках, конторах, глухих коридорах бывали просветы.
Когда отрывали мы взгляд от газеты – бывали просветы.
Когда забывали про цифры и сметы – бывали просветы.
И даже бывали просветы меж строчек о планах досрочных.
Как много их было–случайных, непрочных, ночных, полуночных.
Они приходили во время уроков, домашних заданий.
Они появлялись среди заседаний, учёных советов.
Как много их было – заманчивых высей, заоблачных далей.
И нет оправданий тому, кто не видел и жил без просветов.
И в годы застоя бывали просветы. Среди сухостоя
Вдруг выдохнет кто-то живые куплеты на наши застолья.
Мы песен вкусили, вкусили свободы, простора и света!
А в окнах России и в худшие годы бывали просветы.
Марина УЛЫБЫШЕВА.
|
|
Категория: Новости |
Просмотров: 400 |
Добавил: muchand
| Рейтинг: 0.0/0 |
|
|
|