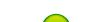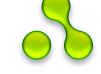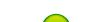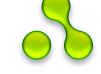| Смогут ли ожить наши великие научные школы, превращенные в руины? Смотрел интервью Сергея Петровича Капицы по телеканалу «Россия 24», и важно, что он назвал выпихивание наших «мозгов» за рубеж после Катастрофы-1991 так, как и надо его называть - «преступлением». Это чудовищное и непрощаемое преступление оборотней, предателей и мародеров, пробравшихся к власти во многом благодаря искренней поддержке этих «мозгов», которых сразу же и «кинули» и постарались от них избавиться. Смогут ли ожить наши великие научные школы, превращенные в руины? Сергей Петрович сравнил нынешнюю Россию с разгромленной Германией, лишившейся из-за Гитлера лучших своих ученых. Они уехали в основном в США, некоторых увезли в СССР, а в итоге немецкий народ так и не восстановил до сих пор свой былой интеллектуальный потенциал.
После окончания физического факультета МГУ я какое-то время работал в Издательстве физико-математической литературы, в редакции справочников, и мне пришлось как-то редактировать справочник по теплофизическим величинам, переведенном с последнего немецкого издания. И я обнаружил множество не просто неточностей-опечаток, а вопиющих физических ошибок. Но ведь немцы в русском представлении – люди пунктуальные, склонные к точности-тщательности. Поделился недоумениями с моим наставником по редакторским делам Виталием Исааковичем Рыдником, и он сказал, я запомнил – «Нынешние немцы уже не те, какие были до войны. Поэтому к их нынешним справочникам надо относиться критически-внимательно». А какими мы, нынешние русские, видимся со стороны?
Но Сергей Петрович Капица напомнил, что у русских есть маяк и вершина – Александр Сергеевич Пушкин. Вдохновимся же его строками, написанными в 1829 году – «О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух И опыт, сын ошибок трудных, И гений, парадоксов друг, И случай, бог изобретатель». Нынешнее состояние России приводит в отчаяние, и народ русский ошкурился, распался и депассионаризировался, но не стоит село без праведника, и есть ещё, я вижу, пусть разрозненные, но творческие, сильные и перспективные русские люди.
Припадаем к Пушкину и находим в нём то, чего ныне жаждет душа. Каждый находит своё – кто-то национализм, кто-то либерализм, кто-то почти коммунизм, а кто-то монархизм и даже православие. В 1979 году по случаю 180-летия со дня рождения национального гения мы с Николаем Николаевичем Лисовым в МГУ на Моховой в Клубе, где ныне домовый храм святой мученицы Татианы, провели Пушкинский вечер. И я развил идеи Пушкинской речи Достоевского о всечеловечности русского нения, а «московский златоуст» Николай Лисовой узрел глубинную суть Пушкина в его Православии, к которому стремился всю жизнь. Я бы сказал точнее – не просто Православие, которое обычно замутняется обрядоверием, а Правая Вера, которая вбирает в себя глубины Благой Вести Иисуса Христа и откровения пророков других религий, а также постижения мудрецов и открытия ученых. А поскольку Пушкин, как и русский человек вообще, есть «всечеловек» и преддверие «богочеловека», то его творчество и его жизнь выражают общечеловеческие экзистенциалы и ответы или подступы к ответам на вечные вопросы людей.
Насыщена информацией книга в серии «Русский мир в лицах», посвященная Пушкину. Она называется «Александр Сергеевич Пушкин. Моя родословная; Я числюсь по России; Единственное явление русского духа», её подготовил известный современный пушкинист Михаил Дмитриевич Филин. Он - автор книг в серии «Жизнь замечательных людей» об императоре Николае Первом, о княгине Марии Волконской и о пушкинской няне Арине Родионовне, а также других публикаций о пушкинских временах. «Очередная книга серии "Русский мир в лицах", - говорится в аннотации, - посвящена Александру Сергеевичу Пушкину - великому стихотворцу, которому было суждено стать не только "национальным поэтом", но и "явлением чрезвычайным и, может быть, единственным явлением русского духа". Жизнь Пушкина - это развитие и постепенное преображение, смысл которого - в выходе за пределы Поэзии (без разрыва с ней) в иные духовные и общественные сферы, в бескрайнее российское бытие. Ибо Россия настолько же невместима в одну, даже величайшую Поэзию, насколько задание Пушкина превосходит масштабы миссии, возлагаемой на Поэта, пусть и самого большого. Люди называли его "главой Русской партии", и эта тема - центральная для данного издания. В книге собраны важнейшие "русские" тексты Пушкина; из них явствует, что Александр Сергеевич "числился по России" (а не только по "задорному цеху" поэтов). В других разделах тома помещены свидетельства пушкинских современников и выдающиеся образцы отечественной пушкинистики XIX-XX вв. - работы, в которых авторы стремились приблизиться к разгадке "великой тайны" гения».
10 февраля – День памяти Пушкина. И Михаил Филин напечатал концептуальную любопытную статью «Прощание с царём» (Литературная газета, Москва, 10 февраля 2010 года, № 5 /6260/, стр. 4):
«Хотя о дуэли и смерти Александра Пушкина создано множество фундаментальных работ, однако и поныне в хронике его последних дней жизни есть не до конца изученные сюжеты. На наш взгляд, полноценному их исследованию мешают укоренившиеся в почтенной науке предрассудки идеологического свойства. Одному из подобных эпизодов – прощанию Пушкина с императором Николаем I – и посвящены эти беглые заметки.
В них мы попытаемся показать: в конце января 1837 года у поэта существовало два взаимоисключающих варианта прощания с царём, и волею обстоятельств он последовательно реализовал в той или иной степени и форме обе возможности.
I.
После чаю много писал.
В.А. Жуковский
23 ноября 1836 года Пушкин и генерал-адъютант граф А.Х. Бенкендорф, как записано в камер-фурьерском журнале, были приняты императором. Поводом для этой чрезвычайной аудиенции в Зимнем дворце стало недавнее острое столкновение поэта с Дантесом и его приёмным отцом Геккерном, едва не завершившееся дуэлью. В ходе свидания Пушкин, по сообщению осведомлённой Е.А. Карамзиной, «обещал государю больше не драться ни под каким предлогом». Приблизительно то же самое рассказал впоследствии редактору-издателю «Русского архива» П.И. Бартеневу столь же сведущий князь П.А. Вяземский: царь, «встретив где-то Пушкина, взял с него слово, что, если история возобновится, он не приступит к развязке, не дав знать ему наперёд».
Спустя два месяца, 27 января 1837 года, поэт, и не помышляя кого-либо оповещать, вышел к барьеру. Иначе говоря, слово, данное Николаю Павловичу, поэт нарушил.
На Мойку с Чёрной речки Пушкина привезли тяжело раненного, а ведь он вполне мог быть убит за Комендантской дачей. Значит, Пушкин, всегда до крайности щепетильный в понятиях чести (point d’honneur), ушёл бы из жизни, так и не испросив прощения у царя, которого он, пусть и с оговорками, глубоко уважал и которого напоследок, увы, обманул?
Благодаря одному сохранившемуся свидетельству (на которое, кажется, до сих пор не обращено должного внимания) у нас появляются основания ответить на данный вопрос отрицательно. Похоже, Пушкин всё же заготовил на случай мгновенной смерти своё эпистолярное «прости».
Итак, его, окровавленного, внесли в дом в шесть часов вечера. Дальше события (вычленяем из калейдоскопа интересующую нас линию) развивались так.
Уже вскоре в квартире появились врачи, постепенно начали собираться пушкинские друзья и приятели. А потом прибыл и лейб-медик Николай Фёдорович Арендт. Осмотрев лежащего в кабинете на диване поэта, он уехал, но в восемь часов возвратился.
Секундант Пушкина, его лицейский товарищ К.К. Данзас, вспоминал о повторном визите доктора: «Прощаясь, Арендт объяснил Пушкину, что, по обязанности своей, он должен доложить обо всём случившемся государю. Пушкин ничего не возразил против этого, но поручил только Арендту просить, от его имени, государя не преследовать его секунданта».
О сказанном вечером 27 января лейб-медику: «Просите за Данзаса, он мне брат...» – поведал в мемуаре и домашний врач Пушкиных И.Т. Спасский.
Главный же хроникёр предсмертных часов Василий Андреевич Жуковский (его конспективные заметки о поединке и кончине поэта стали эпиграфами настоящего очерка) тоже упомянул в письме к Сергею Львовичу Пушкину от 15 февраля 1837 года о заступничестве за Константина Данзаса. И присовокупил к этому следующее: «Когда Арендт перед своим отъездом подошёл к нему, он ему сказал: попросите государя, чтобы он меня простил…» (Схожие строки есть и в февральском письме князя П.А. Вяземского к А.Я. Булгакову.)
С Мойки Арендт поспешил во дворец, но не застал императора: тот находился в театре. Доктор сообщил о приключившемся несчастии царскому камердинеру и отправился домой. Пушкинских просьб царю он так и не передал.
Около полуночи за лейб-медиком примчался «от государя фельдъегерь с повелением немедленно ехать к Пушкину, прочитать ему письмо, собственноручно государем к нему написанное, и тотчас обо всём донести. «Я не лягу, я буду ждать», – стояло в записке государя к Арендту. Письмо же приказано было возвратить».
Содержание записки Николая Павловича, доставленной в квартиру Пушкина и оглашённой у постели умирающего, известно из ряда источников, где приводится фактически идентичный текст. Процитируем её, к примеру, по первоначальной редакции письма Жуковского к отцу поэта (см. книгу П.Е. Щёголева «Дуэль и смерть Пушкина»):
«Если Бог не велит нам более увидеться, прими моё прощенье, а с ним и мой совет: кончить жизнь христиански. О жене и детях не беспокойся, Я их беру на своё попечение».
Прочитав Пушкину это (или примерно это), Арендт удалился, забрав царское письмо с собой.
На дворе уже была глубокая ночь на 28 января 1837 года.
Около пяти часов утра у Пушкина начались мучительные, нестерпимые боли, «настоящая пытка», а до того времени он «страдал, но сносно». Другими словами, после отъезда лейб-медика у него имелось каких-то два-три часа для дум, распоряжений, кратких бесед с друзьями и т.п. Дарованные часы и минуты, подчеркнём это, грозили стать последними – поэту надлежало успеть сделать самое насущное.
И первейшим в сложившейся ситуации для Пушкина оказалось вот что. «Ещё до начала сильной боли, зафиксировал Жуковский, он подозвал к себе Спасского, велел подать какую-то бумагу, по-русски написанную, и заставил её сжечь». Позднее Жуковский в письме к графу Бенкендорфу пояснил, что «бумага», сожжённая «перед глазами» Пушкина, пред тем находилась в «ближнем ящике» стола.
Что за «бумагу» предал огню Спасский?
Испепелялось ничего не подозревавшим врачом то, что было создано до дуэли и тогда же положено автором в «ближний ящик». Значит, будь Пушкин застрелен на месте, «бумага» обнаружилась бы довольно скоро. А в её сожжении видится акт, обусловленный какими-то новыми соображениями. Видится быстрая и логичная реакция поэта на принципиальное изменение контекста, на что-то непредвиденное, случившееся вечером или в начале ночи.
Учитывая вышеизложенное, мы склоняемся к мысли: в ночь на 28 января по воле Пушкина было ликвидировано его письмо к Николаю I, написанное накануне поединка (возможно, утром 27-го числа, когда поэт «после чаю много писал»).
Вышло так, что на Чёрной речке его не убили. А затем император в записке, привезённой лейб-медиком, и простил не сдержавшего слова Пушкина, и обещал позаботиться о будущем его семейства. При таком внезапном повороте дела пушкинское преддуэльное письмо (где, как представляется, должны были затрагиваться те же тяготившие поэта темы) теряло всякий смысл.
Картёжники сказали бы: одна записка побила другую.
Показательно, что сразу же после уничтожения «бумаги» Пушкин призвал Данзаса и «продиктовал ему записку о некоторых долгах своих». Долги, вестимо, были огромные, неоплатные, но теперь, зная царские «драгоценные строки» (Д.Ф. Фикельмон), поэт мог и по части долговых обязательств положиться на великодушие государя.
Вечер оказался мудренее утра. Подправляя и завершая сюжет, Пушкин заменил одну «бумагу» другой, уже прагматической.
Никаких иных распоряжений в эту ночь он не сделал. Поэт, похоже, был готов к смерти.
В заключение напомним, что обычно Пушкин обращался к царю через графа Бенкендорфа. Чуть меньше половины писем (22 из 56), направленных поэтом на имя шефа III Отделения, – на французском языке. Но есть и пушкинские письма, адресованные непосредственно Николаю I, они написаны по-русски.
II.
Его образ мыслей.
В.А. Жуковский
«Жесточайшее испытание» ночи поэт, однако, пережил. К утру боли несколько поутихли, «сильные страдания» отступили. Часы на камине пока ещё мерно шли. И тогда, отправляясь во дворец, Жуковский решился спросить Пушкина, что’ тот хотел бы сказать государю.
С лейб-медиком Арендтом, который познакомил умирающего с высочайшим письмом, Пушкин, скорее всего, не передал царю никаких ответных слов. Возможно, что удобоваримой формулы требуемых этикетом скупых и ёмких слов для истории он, с одной стороны, измученный, обессиленный, с другой – взволнованный нежданной запиской, тогда ещё не успел подобрать. Жуковскому же поэт поручил произнести в покоях Зимнего дворца следующее:
«Скажи ему, что мне жаль умереть; был бы весь его».
Так (с выделением слова «весь») записано у самого Жуковского, и практически так же у доктора Спасского (продолжившего 28 января своё дежурство), А.И. Тургенева и князя П.А. Вяземского. Данную фразу Пушкина иногда называют его прощальным словом, обращённым к Николаю I.
Испокон веку в пушкиноведении утвердилось мнение, что многие предсмертные речи и жесты поэта были post factum выдуманы Жуковским, который, заботясь-де о семье умершего друга, всячески стремился создать упрощённо-идеализированны>й, чуть ли не лубочный образ Пушкина. И до’лжно согласиться: кое-какие основания для обвинения Василия Андреевича в мистификациях у корпорации учёных имеются. Ведь, желая убедить самодержца, правительство и общество в том, что зрелый Пушкин был правоверным христианином и образцовым сыном Отечества, Жуковский подчас и впрямь усердствовал без меры: случалось, он даже вставлял свои, благостные, строки в стихи покойного.
Однако, хотя благонамеренный автор «Светланы» временами и румянил факты, грешил против истины, гораздо чаще он писал сугубую правду о поэте. Беда же заключается в том, что у его свидетельств создана определённая репутация, и посему там, где сообщаемое Жуковским противоречит устойчивым представлениям о Пушкине (да и о Николае I), большинству пушкинистов неизменно чудится опять-таки «ложь во спасение», лукавство. Царедворцу с «небесной душой» никогда не верили до конца и по инерции продолжают верить избирательно.
Прощальное слово к царю не избежало подобной участи: оно обычно трактуется как апокрифическое, как верноподданническая фантазия Жуковского, поддержанная друзьями поэта, и отправляется в разряд сомнительного (Dubia) с комментариями типа: «Пушкин не мог так прощаться с царём. Вся его жизнь протестует против этого…»
Sic et simpliciter*. Полемизировать с такими воззрениями, целостными, бескомпромиссными, ставшими кодом, нет проку: получится как у пушкинских персонажей («Глухой глухого звал к суду судьи глухого…»). Разумнее, продуктивнее обходить капища закоснелых вольнодумцев стороной, за версту, по возможности торить альтернативные исследовательские дороги и тропы.
Нам представляется, что Жуковский никоим образом не блефовал; что рассматриваемая фраза пушкинская, и она могла прозвучать утром 28 января 1837 года. Более того, у неё имелся источник.
Искомый источник мы обнаруживаем не в стихах язвительного Вольтера (как однажды было предложено во «Временнике Пушкинской комиссии»), а в биографии самого Пушкина.
Он умирал вроде бы обыденно, так, как исстари повелось умирать. Общался с женой, заботился о ней, терпел по мере сил боль и не перечил бесполезным докторам, прощался с детьми и друзьями, периодически вспоминал былое. И последнее, почти зримое пребывание поэта в минувшем подмечено целым рядом мемуаристов.
Одним из самых желанных посетителей его кабинета стал Данзас, который (что нетрудно подсчитать) пребывал у дивана Пушкина куда дольше, чем, допустим, Наталья Николаевна. Захаживал Константин Карлович уже не в качестве секунданта, но явно как сокурсник, товарищ юности. Приглашая Данзаса, поэт, несомненно, манил к одру собственное прошлое: Царское Село, Лицей, студенческие кельи… И кольцо, снятое с холодеющей руки, явилось пушкинским даром не только близкому другу, превратившемуся в сиделку, но и далёкому времени, счастливым 1810-м годам.
А ещё Пушкин сокрушался, что подле него нет ни И.И. Пущина, ни И.В. Малиновского, других лицеистов первого курса. «Мне бы легче было умирать», – молвил поэт. Видимо, он снова перенёсся туда, где когда-то по весне слышал лебединые клики.
«Карамзина? Тут ли Карамзина?» – вопрошал Пушкин в очередную минуту облегчения. Когда же Екатерина Андреевна оказалась в комнате, поэт попросил, чтобы вдова историографа его перекрестила. Так он, некогда наивный воздыхатель, попрощался с «предметом его первой благородной привязанности».
«Минувшее проходит предо мною…» Покидая сей мир, Пушкин раз за разом мысленно возвращался «к началу своему», к тем первоначальным дням, которые издалека всем (или почти всем) кажутся особенно чистыми, прекрасными.
Думал он, разумеется, и о государе, приславшем в ночь на 28 января столь милостивую записку. И Жуковский ждал пушкинского ответа, не уезжал.
Отношения поэта и царя тоже имели своё «начало», превосходное начало, которое точно датировано: это 8 сентября 1826 года. Тогда ссыльного Пушкина по высочайшему распоряжению доставили с фельдъегерем в Москву из михайловской глуши. Сразу по приезде в Кремль состоялись его знакомство и длительная беседа с молодым, только что коронованным императором, и поэт был в одночасье прощён. По завершении той аудиенции, проходившей без свидетелей, Николай I удовлетворённо подытожил: «Ну, теперь ты не прежний Пушкин, а мой Пушкин».
А потом Первопрестольная долго и шумно чествовала поэта. «Время незабвенное!»
Врезавшаяся в память царская реплика 1826 года и легла, по нашему мнению, в основу прощального слова Пушкина.
Оно, это слово, похоже на возвернувшееся эхо: «Мой Пушкин» «Был бы весь его».
В пушкинской фразе, которую едва ли можно придумать, отсутствуют вольтерьянские протестующие экивоки. Зато есть и почти явственная реминисценция, и композиционно безупречное завершение трудного десятилетнего диалога с государем, и «чувства добрые», и сокрушение человека, и смирение подданного. Наличествует, мнится, в утреннем прощальном слове, вверенном Жуковскому, и иное. Слышится подспудное, с горчинкой, признание, что всецело царёвым он, Александр Пушкин, при жизни так и не стал.
То ли не сумел, то ли не захотел.
И здесь, не рискуя походя касаться совершенно других, куда более сложных материй (в частности, извечных проблем «художник и власть», «слуга и холоп»), мы поставим точку.
III.
Нельзя же остановить многие посещения.
В.А. Жуковский
За десять лет не одна кошка пробежала между царём и поэтом, и распрощались они довольно официально, едва сократив дистанцию, но всё же по-доброму.
После смерти Пушкина император не единожды в приватных беседах и переписке поминал его, и порою не слишком лестно. Эти высказывания самодержца (по-своему, кстати, резонные) широко известны. Однако мало кто знает о том, что государь, которого современники небезосновательно величали Рыцарем, быть может, ответил на прощальное слово камер-юнкера.
В одной из старых книжек «Русского архива» (1906, № 1) сокрыты очень любопытные, нуждающиеся в дополнительном изучении строки. Имеется в виду бартеневский этюд о Николае I:

Николай Первый, Александр Сергеевич Пушкин и Натали на балу (художник Евгений Устинов)
«…Он плакал о Пушкине, посылал наследника к телу его и ранним утром, когда ещё было темно, приходил к дому князя Волконского, на Мойку, и спрашивал дворника о здоровье поэта».
Полагаем, что сто’ит вернуть из забвения это красивое и правдоподобное петербургское предание».
Теперь вникнем же в заключительные слова "Пушкинской речи" Фёдора Михайловича Достоевского:
"Петр несомненно повиновался некоторому затаенному чутью, которое влекло его, в его деле, к целям будущим, несомненно огромнейшим, чем один только ближайший утилитаризм. Так точно и русский народ не из одного только утилитаризма принял реформу, а несомненно уже ощутив своим предчувствием почти тотчас же некоторую дальнейшую, несравненно более высшую цель, чем ближайший утилитаризм, - ощутив эту цель, опять-таки, конечно, повторяю это, бессознательно, но, однако же, и непосредственно и вполне жизненно. Ведь мы разом устремились тогда к самому жизненному воссоединению, к единению всечеловеческому! Мы не враждебно (как, казалось, должно бы было случиться), а дружественно, с полною любовию приняли в душу нашу гении чужих наций, всех вместе, не делая преимущественных племенных различий, умея инстинктом, почти с самого первого шагу различать, снимать противоречия, извинять и примирять различия, и тем уже выказали готовность и наклонность нашу, нам самим только что объявившуюся и сказавшуюся, ко всеобщему общечеловеческому воссоединению со всеми племенами великого арийского рода. Да, назначение русского человека есть бесспорно всеевропейское и всемирное.
Стать настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только (в конце концов, это подчеркните) стать братом всех людей, всечеловеком, если хотите. О, все это славянофильство и западничество наше есть одно только великое у нас недоразумение, хотя исторически и необходимое. Для настоящего русского Европа и удел всего великого арийского племени так же дороги, как и сама Россия, как и удел своей родной земли, потому что наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силой братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. Если захотите вникнуть в нашу историю после петровской реформы, вы найдете уже следы и указания этой мысли, этого мечтания моего, если хотите, в характере общения нашего с европейскими племенами, даже в государственной политике нашей. Ибо, что делала Россия во все эти два века в своей политике, как не служила Европе, может быть, гораздо более, чем себе самой? Не думаю, чтоб от неумения лишь наших политиков это происходило. О, народы Европы и не знают, как они нам дороги! И впоследствии, я верю в это, мы, то есть, конечно, не мы, а будущие грядущие русские люди поймут уже все до единого, что стать настоящим русским и будет именно значить: стремиться внести примирение в европейские противоречия уже окончательно, указать исход европейской тоске в своей русской душе, всечеловечной и воссоединяющей, вместить в нее с братскою любовию всех наших братьев, а в конце концов, может быть, и изречь окончательное слово великой, общей гармонии, братского окончательного согласия всех племен по Христову евангельскому закону! Знаю, слишком знаю, что слова мои могут показаться восторженными, преувеличенными и фантастическими. Пусть, но я не раскаиваюсь, что их высказал. Этому надлежало быть высказанным, но особенно теперь, в минуту торжества нашего, в минуту чествования нашего великого гения, эту именно идею в художественной силе своей воплощавшего. Да и высказывалась уже эта мысль не раз, я ничуть не новое говорю. Главное, все это покажется самонадеянным: "Это нам-то, дескать, нашей-то нищей, нашей-то грубой земле такой удел? Это нам-то предназначено в человечестве высказать новое слово?" Что же, разве я про экономическую славу говорю, про славу меча или науки? Я говорю лишь о братстве людей и о том, что ко всемирному, ко всечеловечески-братскому единению сердце русское, может быть, изо всех народов наиболее предназначено, вижу следы сего в нашей истории, в наших даровитых людях, в художественном гении Пушкина. Пусть наша земля нищая, но эту нищую землю "в рабском виде исходил благословляя" Христос.
Почему же нам не вместить последнего слова его? Да и сам он не в яслях ли родился? Повторяю: по крайней мере, мы уже можем указать на Пушкина, на всемирность и всечеловечность его гения. Ведь мог же он вместить чужие гении в душе своей, как родные. В искусстве, по крайней мере, в художественном творчестве, он проявил эту всемирность стремления русского духа неоспоримо, а в этом уже великое указание. Если наша мысль есть фантазия, то с Пушкиным есть, по крайней мере, на чем этой фантазии основаться. Если бы жил он дольше, может быть, явил бы бессмертные и великие образы души русской, уже понятные нашим европейским братьям, привлек бы их к нам гораздо более и ближе, чем теперь, может быть, успел бы им разъяснить всю правду стремлений наших, и они уже более понимали бы нас, чем теперь, стали бы нас предугадывать, перестали бы на нас смотреть столь недоверчиво и высокомерно, как теперь еще смотрят. Жил бы Пушкин долее, так и между нами было бы, может быть, менее недоразумений и споров, чем видим теперь. Но бог судил иначе. Пушкин умер в полном развитии своих сил и бесспорно унес с собою в гроб некоторую великую тайну. И вот мы теперь без него эту тайну разгадываем".
|